 М
Мастер был крестный рассказывать. Сколько он знал разных историй -- длинных, интересных! Умел он также вырезывать картинки и даже сам отлично рисовал их. Перед Рождеством он обыкновенно доставал чистую тетрадку и начинал наклеивать в нее картинки, вырезанные из книжек и газет; если же их не хватало для полной иллюстрации задуманного рассказа, он сам пририсовывал новые. Много дарил он мне в детстве таких тетрадок, но самую лучшую получил я в тот "достопамятный год, когда Копенгаген осветился новыми газовыми фонарями вместо прежних ворванных". Это событие и было отмечено на первой же странице.
-- Этот альбом надо беречь! -- говорили мне отец и мать. -- Его и вынимать-то следует только в особых случаях.
Но крестный надписал на обложке:
Коль книжку разорвешь -- беды еще нет!
Другие похуже творили, мой свет!
Лучше всего было, когда крестный сам показывал альбом, читал стишки и прочее, что в нем попадалось, а к этому еще многое добавлял от себя. Вот тогда-то история становилась настоящей историей!
На первой странице красовалась картинка, вырезанная из "Летучей почты" ("Kjobeubavns Flyvende Post" -- весьма влиятельный в свое время литературный орган, основанный И. А. Гейбергом в 1827 г. -- Примеч. перев. ); на ней виднелась "Круглая Башня" и церковь Богоматери; левее этой картинки была наклеена другая, изображавшая старый фонарь с надписью: "Ворвань", а правее -- третья, изображавшая новый фонарь с газовыми рожками и надписью: "Газ".
-- Это афишка! -- говорил крестный. -- Она служит введением к истории, которую сейчас расскажу тебе. Из нее можно было бы выкроить хоть целую комедию: "Ворвань и газ, Или жизнь и приключения Копенгагена". Вот только сумеют ли поставить ее? А заглавие хоть куда! Внизу страницы видна еще картинка. Ее не так-то скоро поймешь! Придется пояснить. Это -- мертвая лошадь (См. примеч., т. I., стр. 274. -- Примеч. перев. ); место ее на последней странице альбома, а она, вишь, забежала вперед! И забежала с целью объявить, что ни начало, ни середина, ни конец альбома никуда не годятся! Она сумела бы сделать куда лучше, если бы вообще умела. Днем -- скажу я тебе -- она гуляет на привязи по газетным столбцам, вечером же вырывается на волю, подбегает к дверям поэта и ржет, что поэт вот-вот Богу душу отдаст. Но поэт и не думает умирать, если только в нем действительно живая душа. Мертвая лошадь почти всегда очень жалкое существо, которое не может даже разобраться в собственном "я" и добывает себе хлеб насущный только беганием да ржанием. Я уверен, что ей наш альбом совсем не по вкусу, но из этого все-таки еще не следует, что он не стоит хотя бы бумаги, из которой сшит! Так вот тебе первая страница альбома -- афишка.
Дело было как раз в тот последний вечер, когда еще горели старые фонари. Город только что обзавелся новыми газовыми, и они сияли так, что старых почти и не видно было.
-- Я как раз бродил в этот вечер по улицам! -- рассказывал крестный. -- Люди разгуливали взад и вперед, сравнивая новое и старое освещение. Народу было много, и вдвое больше ног, чем голов. Ночные сторожа ходили, повеся головы, раздумывая о том, скоро ли и их упразднят, как старые фонари. А те вспоминали далекое прошлое -- о будущем они думать не смели. И чего-чего только ни вспоминалось им, какие тихие вечера, темные ночи!.. Я стоял, опершись о фонарный столб; фитиль в фонаре трещал и шипел; я вслушался в его речь. Послушай и ты!
"Мы делали, что могли! Мы отслужили своему времени, светили людям на радость и на горе. Много важных событий мы пережили. Мы служили, так сказать, ночными глазами Копенгагена. Пусть же теперь нас сменят новые светила. Но сколько лет им приведется светить и что освещать -- скажет лишь время. Правда, они светят поярче нас, стариков, но это и немудрено! У газовых фонарей столько связей, они сильны взаимной поддержкой! От них во все стороны, во все концы идут трубы, по которым к ним притекают силы из города и из-за города! А мы-то, старые фонари, обходимся собственными средствами, не прибегаем за помощью к семейным связям. Мы и наши предки светили Копенгагену с незапамятных времен. А вот теперь пришел нашему горенью последний вечер, и мы стоим, так сказать, во второй шеренге, вы заслоняете нас собою, яркие товарищи! Но мы не станем хмуриться или завидовать, нет! Мы весело и добродушно уступим вам свой пост, как старые часовые молодым драбантам, одетым в более блестящий мундир, нежели их. Хотите, мы расскажем вам, что пережил и перевидел наш род, начиная с нашего прапрапрадедушки-фонаря? Расскажем вам всю историю Копенгагена и пожелаем, чтобы вы и ваши потомки до последнего газового фонаря пережили столько же, могли бы поведать о стольких же важных событиях, как мы, когда вы, в свою очередь, будете отставлены от должности. А это рано или поздно случится! Вы должны к этому готовиться. Люди додумаются до еще более яркого освещения. Я даже слышал от одного прохожего студента, что уже поговаривают о том, как бы заставить гореть воду морскую!"
И фитиль в фонаре зашипел, словно в ворвань и в самом деле влили воды.
Крестный подумал, подумал и нашел, что старый фонарь блеснул прекрасной идеей -- рассказать в этот последний вечер, когда Копенгаген перешел от ворвани к газу, историю города.
-- А хорошими идеями надо пользоваться! -- сказал крестный. -- Я живо отправился домой и сделал для тебя этот альбом, но зашел в нем куда дальше, чем могли фонари. Вот тебе альбом, вот и история:
"Жизнь и приключения Копенгагена"
Начинается она непроглядным мраком -- черной страницей; это времена доисторические.
-- Теперь перевернем страницу! Видишь картинку? Дикая морская пучина; над ней проносится северо-восточный ветер. Он гонит тяжелые льдины; на них плывут только огромные каменные глыбы, оторвавшиеся от скал Норвегии. Ветер гонит льдины; он хочет показать германским горам образчики северных скал. Ледяная флотилия уже в Зунде, у берегов Зеландии, где ныне расположен Копенгаген, но тогда о нем еще и помину не было. Под водой шли обширные мели; на одну-то из них и сели несколько льдин с каменными глыбами. Застряла и вся ледяная флотилия; ветер никак не мог двинуть ее дальше, рассвирепел до последней степени и принялся проклинать эту "воровскую мель". Он клялся, что если только она когда-либо подымется над поверхностью морской, на ней поселятся воры и разбойники, воздвигнутся виселицы, колеса и дыбы.
Но в то время как он клялся и бранился, выглянуло солнышко, а на его лучах качались светлые, кроткие духи, дети света. Они закружились над льдинами воздушным хороводом, те растаяли, и каменные глыбы погрузились на дно.
"Ах вы, солнечные козявки! -- зашумел ветер. -- Так-то вы! Это по-товарищески, по-родственному? Припомню же я вам это и отплачу! Проклинаю вас!"
"А мы благословляем! -- запели дети света. -- Благословляем эту мель! Она будет расти, мы станем охранять ее. На ней воцарятся истина, добро и красота!"
"Фью! Мелите чепуху!" -- просвистал ветер.
-- Вот об этом-то фонаре не могли рассказать тебе! -- заметил крестный. -- А я могу, для истории же Копенгагена эти обстоятельства имеют важное значение.
-- Теперь перевернем страницу! -- продолжал крестный.

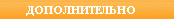
 Зал славы Библиотеки!
Зал славы Библиотеки!
